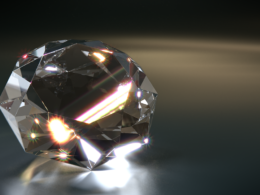Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…
 (Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)
(Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)
- «Растите в небо!..»*
«Я люблю, чтобы деревья росли прямо. Растите в небо!» — завещала нам Цветаева. Она ведь и про себя, еще в 1921-м, сразу после кончины Блока, написала: «Я тоже дерево. — И добавила: — А потом меня срубят и сожгут, и я буду огонь».
…Зубы у нее начали стучать еще в трамвае. Два дня назад на Лубянке от нее не приняли ни передачи, ни денег для Сергея. Болен, умер, убит? Когда в окне приемной НКВД ей сказали, что он переведен в Бутырку, она, разжав губы, не смогла попасть даже на «спасибо»… После пыток его перевели сюда из-за попытки самоубийства. Но те два-три дня, когда она не знала о нем ничего, были самыми страшными для нее. Она ведь и умрет раньше его, повесится за два месяца до его расстрела. Как раз, когда его вновь привезут в Бутырку, но уже в камеру смертников. Погибни он раньше, она бы — верю! — почувствовала.
Повзрослевший Мур, тот, кто еще в девять лет, в Париже, выкрикнул как-то: «Какая у нас ужасная семья!», скоро напишет: именно «рок» вел их всех «на расправу».
Ну-ка вы, сегодняшние, даже не поэты, не вечно скулящие литераторы, а просто люди, можете ли вы вообразить, что Цветаева, идя в 1940-м году по Вспольному переулку в дом к Вильмонтам, друзьям (Москва, Вспольный пер., 18), вдруг нагнулась и, никого не стесняясь, подобрала с земли валявшуюся луковицу? «Суп сварю, — сказала спутнице, жене Николая Вильмонта. — Привычка. Бывали дни, когда я варила суп из того, что удавалось подобрать на рынке…» А ведь еще не было войны, не было карточек, голода. Нет, шел год, когда как раз писатели словно с цепи сорвались, обогащаясь. Весело заселяли огромный дом, специально построенный для них (Москва, Лаврушинский пер., 17), где пятикомнатные квартиры решили дать Федину, Сельвинскому, Эренбургу, Погодину и Вишневскому, а единственную шестикомнатную — Всеволоду Иванову (к нему благоволил Сталин), делили дачи в Переделкине, приобретали машины, азартно скупали мебель красного дерева, фарфор, наперегонки гонялись за антиквариатом. «В них чувствовалось, — пишет свидетель, — стремление к комфорту… «Инженеры человеческих душ», как назвал их Сталин, еще вчера, удавившие в себе совесть, клеймя в газетах «врагов народа», теперь во весь опор неслись к «простому человеческому счастью». С ними ли, «хозяевами жизни», равнять Цветаеву? Внешний их блеск, их благополучие не обманывали ее — она знала цену их строчкам. А по росту ей были, может, два человека — Пастернак и Ахматова. Но и они, увы, и они…
Елена Тагер, жена литературоведа Евгения Тагера (почти единственная семья, с которой успеет подружиться Цветаева и у которой бывала), вспоминала потом, как поздним вечером в их коммуналке зазвонил телефон (Москва, Малый Кисловский пер., 4). Звонил Пастернак. Торопясь, сказал Елене, что Цветаева просит его о встрече (они после Парижа не виделись четыре года), а он не знает — идти ли? Тагер запомнит, как «потрясла ее эта трусость» и как сгоряча она высказала ему всё. Правда, подумав, решив, что с ним произойдет нечто ужасное, сразу же напишет ему: «Родной! Вам не надо ездить к Марине — пока не надо. И не надо этим терзаться, ведь это никак не… затрагивает подлинного…» Подлинного отношения к Цветаевой в его душе. Так-то! Но кто бы подумал в те дни о ее душе? Ведь он, пока длился их десятилетний роман в письмах, был готов когда-то даже бросить жену ради нее. И вот — опасно, даже увидиться опасно.
С Пастернаком встретится, конечно, и не раз. Он даже позовет ее на дачу в Переделкино, на обед с грузинскими поэтами, где она, суровая работяга, «трудоголик», будет ошарашена даже не лукулловым пиром — изумлением: как можно весь день провести за обеденным столом? Но в первую встречу они будут бродить по переулкам до полуночи. Он едва не отморозит уши, устанет и, увы, скажет, что всегда устает от нее. Исправляя неловкость, добавит: как и она от него. «Конечно, он ко мне добр, — заметит она, — но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного».
За два года напечатают кроме переводов лишь один стих ее. Старый, двадцатилетней давности. А когда сгоряча ей предложат издать книгу, то сборник, совсем не сгоряча, зарежет Корнелий Люцианович Зелинский, добрый вроде бы знакомый по Голицыно, но литератор, кого все звали Карьерий Подлюцианович! «Сволочь Зелинский!» — спокойно отзовется на это Цветаева.
Поэт и толпа — вопрос вечный, это все знают. Но толпа поэтов и поэт — вот проблема наиновейшего времени — социализма. Может, потому Цветаева и выведет бессмертную формулу: «У поэта есть только имя и судьба!..».
У нее были имя и судьба, но до них никому уже не было дела. Кроме считанных по пальцам друзей — тех же Тагеров, Вильмонтов. Бывала у замечательного чтеца Дмитриева Журавлева, у дочери Бальмонта Нины и ее мужа Льва Бруни, у переводчицы Нины Яковлевой, где почти влюбилась в молодого тогда поэта Арсения Тарковского. «Влюбилась» — это сказано, пожалуй, сильно. Нет, ей стукнуло всего сорок восемь, но выглядела почти старухой. «Страшной старухой» назовет ее даже сын. А посторонние люди, «нечеловеки» — те меряли ее, как водится, по себе. «Чернокнижница», «концентрат женских истерик», «ведунья, расколотившая к черту все крынки и чугунцы», даже — «кикимора…» Еще одна скажет: «Загнанная горем женщина, и уже — впалая грудь». Но добавит, представьте: зато «вся — как птица летящая».
В письме Берии на полном серьезе просит о свидании с мужем. В четыре утра могла не только позвонить тому же Тарковскому и сказать, что тот забыл у нее носовой платок, но и сорваться ночью — чтобы тут же привезти его к нему (Москва, 1-й Щипковский пер., 26). Могла, слушая радио, аплодировать в одиночестве удачным фразам, могла демонстративно бросить куда попало, «как веник», букет цветов, поднесенный ей, а, увидев у подруги том Державина, предложить за него нефритовое кольцо и какое-то ожерелье: «Раз вы любите эти вещи!..» Боялась автомобилей, эскалаторов, лифтов, пользовалась (если без сопровождающих) только трамваем и метро. Наконец, могла долго говорить о чем-то с простым сторожем, с «блаженной дурочкой», соседкой и, напротив, едким словом отшить «интеллектуала». В этом была «особость» ее — тоже своеобразная вертикаль! — но в этом же — и истерзанность души, и растерянность, и жизнь на последнем, истонченном уже, нерве.
Реально же у нее было: отсутствие жилья — летом перебилась тем, что ее пустили к себе Габричевские, «друзья друзей», уехавшие на дачу (Москва, Бол. Никитская, 6); отсутствие прописки (из-за этого Мур сменит пять школ); отсутствие известий о муже (на Лубянке вдруг опять перестали принимать и деньги, и передачи); отсутствие работы. Сплошное «нет». Вот когда поняла: западня захлопнулась. И вот когда, зная всё наперед и ни на что не надеясь уже, послала телеграмму Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». Цветаеву вызовут в ЦК, но ее ничем не спасут, скажут, что могут лишь позвонить в Союз писателей, на который она и жаловалась. Правда, кажется, при ней и позвонят. Так в ее жизни возникнет добрый гений; он найдет ей последнее жилье — комнатку на Покровском бульваре. Его звали Арий Ротницкий, по отзывам — прямой, честный, чуткий человек. Но знаете, за что в Литфонде отвечал этот румяный «ангел» с эспаньолкой и брюшком, отчего его суеверно обегали даже генералы от литературы? Язык не поворачивается сказать! Отвечал — за организацию похорон писателей. Что ж, ей к тому времени осталось жить — меньше года.
Для нее последней «тюрьмой» — «гробом» станет в Москве как раз дом на Покровском (Москва, Покровский бул., 14/5). «Безымянный» дом, не «цветаевский», ибо на нем и ныне нет памятной доски. Здесь, на седьмом этаже, за окном без штор, в тринадцатиметровой комнате она с сыном и проживет последние десять месяцев. Те, кто бывал у нее, помнят велосипед под потолком в прихожей, голую лампочку в комнате, одежду на гвоздях по стенам. Что еще? Стол у окна, матрас на чурбаках для сына, топчан из чемоданов — для нее. Не парижская даже бедность — просто нищета. Теперь в любых гостях она берет что-нибудь со стола и прячет в сумку — сыну. А дома на общей кухне упорно вешает над плитой, кастрюлями и чайниками выстиранные брюки его (он у нее — парижский франт!), и возмущается, что это злит соседей. «Сволочи! Они назвали мать нахалкой, — заносит в дневник Мур. — Мать говорит, что может из четырех конфорок располагать двумя»…
Отсюда ходила на встречу с Ахматовой — виделись, кстати, впервые за жизнь. Встречи не вышло. Но когда спустя годы театровед Павел Громов, друживший с Ахматовой, напомнит, что в Париже Цветаева голодала, Ахматова отвернется: «Не знаю, не знаю — на ней были такие тряпки, что не похоже, что ей плохо жилось!..» А ведь в июле 1940 года Цветаева и Мур до четырех утра стояли в очереди, чтобы купить вышедшую тогда книгу стихов Ахматовой, и не раз слышали потом: «Раз Ахматовой можно книгу, то почему нельзя Цветаевой?». А вот — нельзя и всё! Может, потому, что только она, единственная (!!!), ни разу, как действительно великая, не солгала словом, не написала, как Мандельштам, Пастернак и та же Ахматова стихов в честь Сталина или власти. А ведь жилось ей, мягко сказать, похуже их. Это тоже — факт.
Наконец с Покровского, за четыре дня до войны — последней катастрофы ее — ездила в Кусково с сыном, с поэтом Крученых и Лидой Лебединской, тогда девочкой еще. Цветаева была в белых резиновых туфлях со шнуровкой, совсем без каблуков, и в простом из сурового полотна платье. Лида Либединская, впервые видевшая ее, запомнит, что в Шереметьевском дворце, в музее, Марина Ивановна скажет спокойно: «Хороший дом, хочу жить в нем!» — а про портреты старинных красавиц на стенах неожиданно заметит: «Не люблю вещей за то, что они переживают своих хозяев». Послушает стихи Лиды, тут же мастерски поправит их, предложит учить ее французскому и, заметив замешательство, успокоит: «Конечно, совершенно безвозмездно». Но меня из всех заметок про тот летний день больше всего поразило, что, когда они на лодке доберутся до какого-то островка, Цветаева ляжет на траву и, закинув руки за голову, будет долго глядеть в небо. Последняя безмятежность. О чем думала, глядя на облака? О прошлом, о будущем? Французским, кстати, предложила Лиде заняться прямо с понедельника, но в воскресенье началась война.
Из «Рабочих тетрадей» Цветаевой: «Эпоха не против меня, я против нее. Я ненавижу свой век из отвращения к политике, которую за редчайшими исключениями считаю грязью. Ненавижу век организованных масс. И в ваш воздух, машинный, авиационный, я тоже не хочу. Ничего не стоило бы на вопрос — вы интересуетесь будущим народа? — ответить: — О, да! А я отвечу: нет, я искренно не интересуюсь ничьим будущим, которое для меня пустое и угрожающее место. Я действительно ненавижу царство будущего…»
Будущего у нее уже и не было. Был обморок, морок, мор, рок. Одно слово, вместившее всё. Вой сирен, бомбоубежища, страх за Мура, тушившего зажигалки по ночам на крыше дома на Покровском бульваре, судорожная сушка моркови по всем радиаторам для Али, в лагерь («можно заварить кипятком, все-таки овощ»). И — кружение бессмысленных уже хлопот с квартирой, из которой вновь, из-за войны, изгоняли хозяева («Милые правнуки! И у собаки есть конура»). И, как напишет в дневнике Мур — «Литфонд — сплошной карусель несовершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым, и Асеевым, и Фединым». И, как итог — хаос души ее, победивший гармонию, когда она, по словам знакомой, стала уже, «как провод, оголенный на ветру, вспышка искр и замыкание». То есть — тьма!
Но мне, уходя из ее дома на Покровском, всё вспоминалось одно: как еще в первую бомбежку к ней, в квартиру под самую крышу, поднялся всего лишь управдом (всего лишь проверить затемнение!), а она, ничего не соображая уже, вдруг встала спиной к стене и молча, крестом раскинула руки. Замерла в неописуемом ужасе… «Я всех боюсь, всех…».
(Окончание следует)