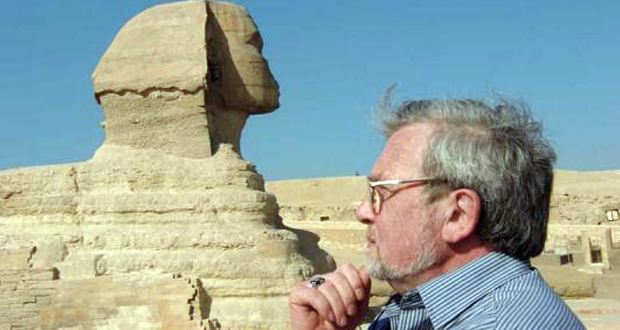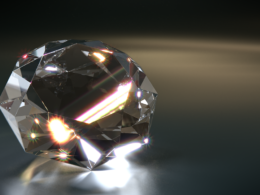Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…
 (Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)6.
(Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)6.
«Лучше бы я… умерла»
Собака лает, кошка ловит мышей, мельник… Мельник — кто ж не знает — мельник мелет муку! Но Цветаева в восемь лет еще из протеста, из «отвращения к общим местам», из ярой ненависти к диктантам (лучше сказать — к диктату!), назло учителю тогда же написала: «Собака лает, кошка — ловит… Мельник? Мельник играет на виолончели…» В этом вот — она вся!..
Собака, кошка, мельник… А поэт? Что делает поэт? Думаете, пишет стихи? Нет. Сначала поэт — любит. Даже когда налетают окаянные дни, когда страна колется пополам, когда общество делится на божественную и скотскую расы, а между любящими глубже бездн ложатся фронты войны Гражданской.
Цветаева. Из «Записной книжки № 8»: «Слушайте внимательно, я говорю Вам, как перед смертью: — Мне мало писать стихи!.. Мне надо что-нибудь — кого-нибудь — любить — в каждый час дня и ночи… Была ли я хоть раз в жизни равнодушна к одному, потому что любила другого? По чистой совести — нет… Одна звезда для меня не затмевает другой — других — всех! — Да это и правильно. — Зачем тогда Богу было бы создавать их — полное небо!..»
Этот человек всего дважды поминается в письмах Сергея. Но он пять лет был рядом с Цветаевой. Первый раз Сергей написал о нем только одну фразу: «Надеюсь, Никодим, как всегда, вас спасет». Сам Сергей с армией Корнилова в те дни как раз одолел 700 километров легендарного Ледяного похода на Екатеринодар. 65 верст в сутки. В «красном кольце», под артобстрелом, они шли по колено в замерзающей грязи, три месяца спали, не раздеваясь. Сорок пять боев. Кажется, тогда Сергей и возглавит пулеметную команду (как ему простят это потом, взяв в агенты ГПУ, ума не приложу). Кстати, сражаясь, считал: Россия «выздоравливает», верил, что к Рождеству они будут в Москве. Но ей написал: «Моя последняя и самая большая просьба к Вам — живите!..» И вспомнил Никодима: он спасет! А уже в Праге, когда у нее вспыхнет новый, самый большой роман ее, Сергей, предложив ей развод, вновь помянет Никодима. Напишет Волошину, что в день бегства из Москвы, в том ноябре 17-го года, когда рвался на Дон и на всё смотрел «последними глазами» («Ты знаешь, — напишет, — на что я ехал…»), Марина «делила время между мною и другим…» Этим другим и был как раз Никодим Плуцер-Сарно.
Он жил в Николопесковском (Москва, Большой Николопесковский пер., 4), и здесь, рядом с нынешним театром Вахтангова, она всегда чуяла еле слышный запах хороших сигар. Их курил он. Дым сигары попал потом в ее стихи, как и окно его квартиры. Помните: «Вот опять окно, где опять не спят…»? Окно и ныне на втором этаже этого дома. Вот за ним, вместе с женой, и жил смуглый черноглазый доктор экономики Плуцер-Сарно. Отсюда, в день знакомства, еще в 1915-м, он послал ей корзину нежных незабудок. Романтик, «эталон мужества», пишут о нем, авантюрист, жадный до жизни. Он был старше ее на десять лет, а ей всегда хотелось, чтобы кто-нибудь гладил ее по голове. «Маринушка, — писал он, — я держу в руках Вашу светлую головку и… чую явственно весь меня поглощающий ритм Вашей души… Как Вы мне необходимы… Мы с Вами, Маринушка, двое БЛАГОРАЗУМНО несчастных БЕЗУМНО счастливых людей…» Ныне говорят: любовь — это феромоны, игра гормонов, люди просто выдумывают свои неистовые чувства. Но так как «выдумывала» их Цветаева — не выдумывал никто. Более того, в отличие от нас, она, вообще, кажется, жила не в реальном мире — в параллельном, своем, но столь же живом и огромном. Вот уж где точно и фонари вдоль переулков, и даже солнце вспыхивали по ее хотению…
Как-то, размышляя о любви, она напишет: «Мне нужно понимание. Для меня это — любовь. Я хочу никого не держать и чтобы никто не держал!» Но Никодиму, поперек себя, напишет иначе: «Милый! Когда я вхожу к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Нельзя оспаривать право человека на воздух. Я Вами дышу, Вами…» Через полгода от любви к нему будет уже, что называется, на стену лезть: «В любую минуту я о Вас думаю… Это ныло у меня два года, а теперь воет… Люблю Вас и без сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без Вас — спящего без снов! — просто за голову на подушке!..» А он к осени 1918 года принимал ее у себя почти равнодушно: «Ах, это Вы!». Говорил: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю…» Приходил к ней сначала в четыре часа, потом в шесть, в восемь, потом — вообще перестал приходить. В последнем сохранившемся письме она напишет: «Я Вас больше не люблю… Не думаю о Вас ни утром, ни ночью, ни под музыку». И скажет слова про все прошлые и даже будущие романы свои: «Вы первый перестали любить. Я люблю до последней возможности…»
Параллельный мир поэта! Мир абсолюта! Может, он и спасал? В нем не была нищей, пусть и ходила теперь, порой, босиком. В нем не замечала ничего. В нем, как написала в дневнике, отпадали людские предрассудки: «Евреи, высокие каблуки, чищеные ногти — чистые руки! — мытье головы через день», вся та — «непереносная… жизненная дробь». В нем, наконец, уживались Сергей, Никодим и сколько, сколько еще. Наконец, в нем — даже сказать тяжко! — еще до смерти «умерла» для нее Ирина — ее вторая дочь.
Писать о Цветаевой и впрямь жутковато, перекреститься тянет, усаживаясь у компьютера. Ну можно ли, скажите, ежедневно бросать вызов судьбе, обществу, самому Богу? В воображении она — стремление к совершенству. «Тонкая, легкая… Нежный голос… Живу, как другие танцуют: до упоения — до головокружения — до тошноты! Я — Танцовщица Души…» А в реальности — «баба кулак», с «решительными, дерзкими до нахальства манерами», — как отзовется о ней одна знакомая. И не из-за этой ли раздвоенности самые ужасные события ее жизни случались, когда она «воображенная» сталкивалась вдруг с собой — реальной?..
Через пять лет после рождения Али, первой дочери ее, на свет появилась Ирина. Аля, которая в четыре года свободно читала, в пять писала, а в шесть вела дневник, была «лучшим стихом» её. «О, как тебя будут любить! — напишет Цветаева о ней. — Ты будешь красавицей, будешь звездою… Ты уже сейчас умна и очаровательно до умопомрачения». Захлебываясь от восторга, скажет: «Такого существа не было и не будет», были юные гении в музыке, в живописи, но не было столь юного «гения Души!» Но тогда же, еще до рождения Ирины, вдруг запишет: «Легче быть запертым в клетку со львом, чем в комнату с грудным ребенком». Через годы, опомнившись, припишет над этой фразой два слова, но уже точно про вторую дочь: «Ирина, прости!..»
Ирину рожала в доме для подкидышей. Нет, родильное отделение там, на Солянке (Москва, ул. Солянка, 2), было вполне пристойным, были даже платные одноместные палаты, где она и лежала, но к дочке — вот к дочке, появившейся на свет, она почти сразу отнеслась именно как к подкидышу. «Случайный ребенок», — почему-то по-немецки запишет в тетради. Будет стыдиться гулять с ней, уходя, иногда на всю ночь, привязывать к ножке кресла (та, не привязанная, съела однажды полкочна сырой капусты!) и, сияя, соглашаться с любым: дочь — дефективна. «Я никогда не любила ее в настоящем, всегда в мечте… — напишет. — Меня раздражала ее тупость (голова точно пробкой заткнута!), ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, что она вырастет…» А в 1919-м, в самый голод, будет гадать: «Кому дать суп из столовой? Ирина слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж всё равно плоха, а Аля еще держится…» Жуть! Впрочем, меня убило другое: она за три года жизни Ирины брала ее на колени, как сама призналась, раз десять всего, отчего та только тогда и смеялась. «Маена, Маена моя!» (Марина моя! — В.Н.) — и — начинала петь от радости…
Спасение, казалось бы, пришло неожиданно. От Павлушковых, от Драконны, из дома которой ее выгнали семь лет назад. После революции Цветаева вновь сошлась с ней, и именно Лидия Александровна — Драконна сказала, что рядом с госпиталем в Кунцеве, где ее Павлушков служил главврачом, открылся приют американской благотворительной организации: рис, шоколад, супы. Правда, приют для сирот, своих детей там придется выдать за чужих. И если Цветаева накануне расставания всю ночь штопала панталоны и платьица дочерей, то Драконна, встретив их наутро, скажет, что нужно было, напротив, разодрать их, ведь дети — «круглые сироты». На Иру Цветаева внимания не обращала, а Алю вечером наставляла. «Понимаешь, — вбивала ей в голову, — всё это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стриженая голова… грязное платье — и на шее номер. Ты должна была бы жить во дворце, а будешь жить в приюте. — Ты понимаешь, как это замечательно?.. Это — авантюра, это идет великая Авантюра твоего детства… Если тебя будут бить — бей. Не стой, опустив руки, а то тебе проломят голову!.. Главное — ешь, не стесняйся, объедай их вовсю!..» Аля в ответ кивала: «Да, Марина, они враги — я буду их объедать!» и клялась: «Я смогу Вам откладывать еду», а если дадут компот — «выловлю весь чернослив и спрячу». «О, Марина, как жаль, что нельзя засушивать еду, как цветы!..» Наивные, дорого обойдется им и этот мифический «компот», и «засушенная еда»…
Короче, ранним утром 15 ноября 1919 года, они уселись в сани и отправились в приют. У Поклонной Ирина, пригревшись на коленях у Драконны, раздражая мать, начала талдычить: «Тюдесно си-деть!» Потом завела песню: «Ай, дуду, дуду, дуду…» Вообразите: сугробы, ветер, одиноко плетущиеся сани. И никто из четверых не знает: самая маленькая из них едет на смерть. Более того, смерть не в параллельном мире — реальная, будет ждать в Кунцеве и саму Цветаеву… Да, ровно через два месяца метельная ночь едва не поставит точку в ее вечном «романе со смертью». Спасут две бабы из деревни Аминьево — я обещал рассказать об этом.
Цветаева. Из «Записной книжки № 7»: «Мой день: встаю — верхнее окно еле сереет — холод — лужи — пыль от пилы — ведра — тряпки… Пилю. Топлю… (Хожу и сплю в одном и том же коричневом, бумазейном платье… Всё прожжено от углей и папирос)… Потом уборка… Маршрут за обедом — оттуда — по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и бидонами — ни пальца свободного — и еще ужас: не вывалилась из корзинки сумка с карточками!.. Все обеды — в одну кастрюльку: суп вроде каши… Кипячу кофе. Курю. Пишу… Появились некоторые совсем старческие жесты. Сижу одна на кровати — пилила, устала — руки некрасиво и бессильно лежат на коленях. Не жалко и не страшно. — Пусть! (Тем более, что мне 27 лет, а с виду и 20-ти нет!)… В 10 ч. день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 10 ч. или в 11 ч. — в постели. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросами, — иногда — хлебом… Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, радости от малейшей удачи, планов пьес — все стены исчерканы строчками стихов и NB для записной книжки!..»
В ту ночь в Кунцеве она действительно едва осталась жива. Но — потеряла дочь. Какой там шоколад и рис — в приюте, как оказалось, давали лист капусты в супе и ложку чечевицы, которую голодные дети, растягивая радость, ели по зернышку. А спали — по трое в кровати. Все это Цветаева увидит, когда через две недели, услышав, что Аля заболела, примчится в приют.
«…Дети. Большие животы, идиотские лица», — напишет о посещении. Воды нет, нет врача, лекарств, кругом безумная грязь, полы, как сажа и лютый холод, ибо отопление испорчено. “Ирина все поет?” — спрашиваю надзирательницу. “Поет. Дефективный ребенок”. Я почти радостно: “Чудовищно неразвита”… Идем по темной лестнице… Несу Але 2 куска сахара. Какая-то девочка: — “Аля! К тебе тетя приехала!..”» «Страшное, нищенское ватное одеяло. Из-под него воспаленные ярко-красные от слез Алины огромные глаза. Бритая голова… “Мамочка! Я была у вас совсем сыта, а здесь — ни капли! Я погибаю. Ирина, я с ней спала, сегодня ночью обделалась три раза”… Тут только замечаю Ирину. Не улыбается. Узнаю ее гнусность… Взглянув на меня, отвертывается… Даю Але сахар. — “А что же маленькую-то не угостите?” — Делаю вид, что не слышу. Господи! Отнимать у Али!.. Ирина в злобе колотится головой об пол. “Ирина!!!” — окликаю. Послушно встает… Через секунду вижу ее над лестницей. — “Ирина, упадешь!” — кричу. “Не падала, не падала — и упадет?” — спрашивает какая-то девочка. — “Вот именно, — говорю спокойно и злобно — не падала — и упадет…”»
Не упадет. Умрет от голода, когда Цветаева, схватив Алю в охапку, увезет ее, больную, домой. Но в тот вечер, едва оторвав Алю от себя, чуть не погибнет сама. Покинув приют, угодит в дикую метель, в снег по колено. Спокойно и, как пишет, безнадежно, подумает: «Замерзну…» А когда поймет, что вдобавок заблудилась, услышит вдруг из темноты голос какой-то старухи: «Барышня! Вы куда?..» — «В Кунцево». — «Ох, не дойдете, — ишь дорогу-то как замело…» — «А Вы куда, тоже в Кунцево?» — «Нет, я здешняя». «Надежда, — пишет Цветаева, — пропадает…» К счастью, через минуту, издалека уже, услышит тот же бабий голос: «Милая! Подвези-ка их! Им тоже в Кунцево! Ты ведь на станцию?» Цветаева даже не увидит саней, услышит крик: «Что ж, садитесь, пожалуй, коли сядете, только лошадь я остановить не могу, спешно мне!..» «Вскакиваю на ходу, — пишет Цветаева, — в первую секунду, не понимаю, в сани или в снег — нет, снег движется — значит в сани. Спасена!..»
Из письма Цветаевой — поэтессе Вере Звягинцевой: «Я даже на похороны не поехала… Чудовищно? Да, со стороны. Лучше было бы, чтобы я умерла!.. Но я не от равнодушия не поехала. — У Али было 40,7… и… сказать правду?! — я просто не могла… К живой не приехала… — Ах господа!.. Живу с сжатым горлом, на краю пропасти… Во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям… Когда самому легко, не веришь, что другому трудно. И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была только Аля… И вот Бог наказал… Если можно, никаким общим знакомым — пока не рассказывайте, я, как волк в берлоге, прячу свое горе…» А в тетради, в потайном дневнике, запишет прямо: «Иринина смерть… Если от голода — немножко хлеба! если от малярии — немножко хины — ах! — НЕМНОЖКО ЛЮБВИ…»
И, оставив чистые страницы, — оборвет запись…
(Продолжение следует)