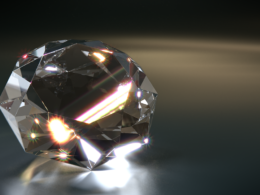Татьяна Янкелевич-Боннэр: «Моя мама в 1941 году пошла на фронт добровольцем, была медсестрой военно-санитарного поезда № 122, лейтенантом медслужбы»
Исполнилось 95 лет со дня рождения Елены Боннэр (15.02.1923–18.06.2011), общественного деятеля, правозащитника, жены академика Андрея Сахарова. К этой дате было приурочено второе в России издание книги её мемуаров «Дочки-матери» (первое состоялось в 1994 году). На презентацию книги из Бостона в Петербург приезжала дочь Елены Георгиевны Татьяна Янкелевич-Боннэр. Она приняла деятельное участие в организации вечера памяти Елены Боннэр и проведении его в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Накануне
– Татьяна Ивановна, если заглянуть в справочную литературу, узнаешь: согласно свидетельству о рождении Елены Георгиевны, она была не Боннэр…
– Совершенно верно. При рождении мама записана как Лусик Алиханова. После ареста родителей (отчим – Геворк Алиханян, член исполкома Коминтерна; мать – Руфь Боннэр. – прим. авт.) в 1937-м она взяла фамилию матери. И назвала себя Еленой – в честь Елены Инсаровой, героини романа Ивана Сергеевича Тургенева «Накануне». А ещё год себе добавила, иначе по малолетству не могла устроиться на работу, а устраиваться надо было. Чтобы помогать бабушке, которая осталась одна с тремя внуками на руках и содержала семью на свою более чем скромную пенсию. Мама была старшей.

– Вся жизнь Елены Боннэр прошла в обстановке репрессий. В подростковом возрасте она лишилась родителей, погибли или пострадали другие близкие и дальние родственники. Это, как говорится, данность. Когда же три десятилетия спустя Елена Георгиевна начала свою правозащитную деятельность, она уже сознательно ставила себя под удар власти. И не только себя, но и своих детей. Во всяком случае, обрекала их, то есть вас с братом, на непростую жизнь. Значит, это был её осознанный выбор?
– Вы хотите спросить, как мама могла рисковать жизнью или благополучием детей? В нашей семье такие вопросы никогда не стояли. Все поступали, как велела совесть. O каком выборе речь?! Мама просто не могла поступать иначе. На всё происходящее она реагировала органично и спонтанно – это давно установленный факт. Она не могла не подать кусок хлеба пленному немцу. Не могла не поехать в Центральный комитет комсомола отстаивать своё право оставаться членом Ленинского союза молодёжи после ареста родителей, как бы потом к комсомолу ни относилась.
В 1953 году мама была студенткой Первого Ленинградского медицинского института. Во время «дела врачей» её вызвали в деканат и как профоргу курса поручили призвать студентов требовать смертной казни для одного из профессоров – Василия Закусова. Закусов уже был арестован, была арестована и его жена. Закусов – выдающийся фармаколог, замечательный педагог, студенты его любили. Василий Васильевич не был евреем, и, может быть, его включили в списки для того, чтобы завуалировать антисемитскую природу кампании, направленной против «безродных космополитов». На общем собрании в институте мама сказала: «Вы что, ребята, сошли с ума? Смертную казнь нашему Василию Васильевичу?!»
На следующий день приходит она в институт – сокурсники удивляются: «Ты чего пришла?! Уже вывешен приказ о твоём исключении». За таким исключением следовал арест. Секретарь декана, в высшей степени порядочная женщина, говорит: «Немедленно уезжай из города!» Это был конец февраля 1953 года. Мама собралась вместе со мной, почти трёхлетней, ехать в Горький, где в ссылке находилась моя бабушка, Руфь Григорьевна. Перед самым нашим отъездом, 5 марта, стало известно о смерти Сталина. Но мама всё равно уехала в Горький. Через месяц, 3 апреля, супруги Закусовы были освобождены и реабилитированы. Маму восстановили в институте, и она вернулась в Ленинград.
– У Елены Георгиевны была благородная профессия – врач-педиатр. Она приносила пользу конкретным людям. Занявшись правозащитной деятельностью, Елена Боннэр ушла из медицины…
– Она не ушла! Мама всю жизнь проработала в медицине. Участковым врачом, педиатром – и в больницах, и в поликлиниках, и в родильном доме. Преподавала в медицинском училище при Первом «меде». После переезда в Москву преподавала педиатрию и была заведующей практикой в медучилище № 2 имени Клары Цеткин, теперь оно называется медицинским колледжем, но по-прежнему имени Клары Цеткин. (Когда мамы не стало, у нас с братом была мысль – ходатайствовать о присвоении этому училищу имени Елены Боннэр.) Медицинским работником мама была до пенсии, она удостоилась почётного знака «Отличник здравоохранения».
На пенсию вышла не по возрасту, а как инвалид и ветеран Великой Отечественной войны. Я помню, как изумлён был Виктор Шендерович, узнав, что мама – инвалид и ветеран Великой Отечественной. Об этом в советское время умалчивали.
В советской прессе с её миллионными тиражами Елену Боннэр шельмовали как еврейку, совратившую с праведного пути русского академика Сахарова. Маме совершенно безосновательно приписывали убийства или покушения на убийства. Утверждалось, что её «преступления» доказаны. У мамы отказывались принимать заявления в суд, лишая её правa на защиту от клеветы. Автором нескольких клеветнических публикаций был некто Николай Яковлев, историк, репрессированный в сталинские годы и впоследствии завербованный КГБ. Самая многотиражная его клевета была в журнале «Смена» в июле 1983 года. Мама обратилась в суд с иском «О защите чести и достоинства». К иску были приложены её показания с автобиографией и свидетельские показания Андрея Дмитриевича. Районный народный суд Киевского района Москвы отказался принять её заявление.
Как пишет она сама в книге о горьковской ссылке, цитирую: «Яковлев, конечно, заставил нас волноваться. Вначале – больше Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подобной литературы вредно, и не только психологически, но и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 14 июля 1983 года Яковлев приехал к нему – этот человек хотел то ли интервью от Сахарова, то ли ещё чего, и получил – пощёчину. Об этом своём поступке Андрей рассказывает сам в своей книге. После пощёчины Андрей успокоился и был очень доволен собой. Как врач, я думаю, что этим Андрей снял стресс – и это было полезно. Как жена – восхищаюсь, хотя понимаю, что вообще подобное не соответствует натуре моего мужа».
Что же касается «благородной профессии»… Да, конечно, врач – благородная профессия, хотя как быть с врачами, оказавшимися не благородными людьми? Да, конечно, есть порядочные люди, которые по складу своего характера, в силу воспитания, а может быть, из страха или осторожности, выработанной годами жизни при советском строе, не отваживались на такие поступки, на какие решалась мама. Вы спрашиваете: это был сознательный выбор? Что значит «выбор»? Есть выбор, который не является выбором. Это органичное человеку, его характеру, его личности поведение. И когда мы с восхищением говорим: «Как мужественно человек поступил! Какой он сделал выбор!», он удивляется нашим словам. Потому что для него это не выбор – это совершенно естественное поведение.
– На вечере в Музее Ахматовой прозвучало, что Елена Георгиевна послужила прообразом главной героини повести Веры Пановой «Спутники», по которой Пётр Фоменко снял замечательный фильм «На всю оставшуюся жизнь» – его уже больше сорока лет непременно показывают по телевизору ко Дню Победы.
– О том, что мама – прототип медсестры военно-санитарного поезда, описанного в повести «Спутники», я впервые услышала одновременно с вами. Анатолий Вершик раньше мне об этом не говорил. Может быть, сам недавно узнал. Я не вижу сходства между Леной Огородниковой и мамой. Они очень разные. Разве что мамина энергичность соответствует жизненной энергии Огородниковой. Поэтому у меня есть некоторые сомнения по поводу этой версии. А с другой стороны, мама была хорошо знакома с поэтом-фронтовиком Марком Соболем. Он к ней очень тепло относился. Марк Андреевич дружил с Пановой. Может быть, он и говорил Вере Фёдоровне о маме и её санитарном поезде, и это каким-то образом сказалось на персонажах повести, на характерах и биографиях. Это всё, что я могу сказать, отвечая на ваш вопрос.
А вообще-то, если касаться военных лет, я всем советую прочесть её автобиографическую книгу «Дочки-матери» и её очерк «Бессонной ночью в канун юбилея», написанный 5 мая 1995 года. Накануне 50-летия Победы. Там о многом, очень суммированно. В основном о самоидентификации. Но и о том, как попала в военно-санитарный поезд № 122. Очерк посвящён памяти Владимира Ефремовича Дорфмана, начальника поезда, который взял маму к себе на службу, и, тем самым, может быть, спас ей жизнь.
– Татьяна Ивановна, информация о вашем папе в Интернете запредельно куцая…
– Там пишут какую-то чушь! Я уже пыталась исправить, но пока изменений на сайтах не вижу.
– Я спрашивал людей, которые знали Ивана Васильевича Семёнова. Все как один говорят: был очень достойный человек.
– Совершенно верно.
– Может быть, расскажете о нём хотя бы вкратце?
– Папа родился в селе Приданцы Островского уезда Псковской губернии, он младший из пяти детей в крестьянской семье. Окончил курсы военных фельдшеров и всю войну прошёл в медицинских частях. Поступил в Первый медицинский институт, где они с мамой и познакомились. Окончил институт по специальности «судебная медицина». Был довольно известным судебным экспертом. Как учёный, в своих экспертных оценках был предельно честен. После того как они с мамой разошлись, вернулся из Москвы, где мы тогда уже жили, в Ленинград, в Первый медицинский, где он работал раньше и где его приняли с распростёртыми объятиями. К концу своей профессиональной карьеры заведовал кафедрой судебной медицины. Вот вам пример его достойного поведения: в 1970-е годы сотрудники КГБ стали ходить по всем, знавшим Елену Боннэр, пытаясь собрать на неё компромат. Так вот, согласно семейным преданиям (папа никогда об этом не говорил), он спустил агента КГБ с лестницы.

Легендарная квартира
– Вы родились в Ленинграде?
– Да, в Оттовском институте (Институт акушерства и гинекологии Академии медицинских наук СССР, с 1988 года – имени Д.О. Отта. – прим. ред.). Принимал меня профессор Мажбиц. Александр Моисеевич был отцом сокурсницы и близкой подруги моей матери Изабеллы Мажбиц. Александр Моисеевич вёл мамину беременность и доказывал ей, что у неё будет мальчик. А мама настаивала: будет девочка, и оказалась права. У Елены Георгиевны и Ивана Васильевича было двое детей. Алёша родился в 1956-м. Родители разошлись в 1965-м. Мама и Андрей Дмитриевич познакомились в 1970-м.
– Когда и по какой причине вы стали москвичами?
– В Москву мы переехали в 1962 году, после того, как мой брат тяжело и очень опасно заболел, и потребовалось сменить климат. Иначе бы он не выжил. Благо, что было где жить. У бабушки.
– На Чкалова?
– На Чкалова, теперь это Земляной Вал, как и раньше. Квартира получена моей бабушкой после реабилитации в 1954 году. Когда папа, как я уже сказала, вернулся в Ленинград, мы остались в этой квартире вчетвером: бабушка, мама, брат и я. Я вышла замуж – к нам переехал мой муж, Ефрем Янкелевич. Мама взялась строить кооператив. Вскоре после того, как мы с Ефремом переехали в кооперативную квартиру, у нас родились дети. Незадолго до нашего переезда в квартиру на Земляном Валу пришёл Андрей Дмитриевич.
– Когда-нибудь на Чкалова будет квартира-музей?
– Вот этого я не знаю. Боюсь, что при теперешнем раскладе в России вряд ли. Сомневаюсь, что квартиру кто-то сможет приобрести и подарить Сахаровской комиссии для создания музея. А квартира совершенно историческая, и не только потому, что там жил Сахаров, а потому, что после бабушкиной реабилитации (она была реабилитирована одной из первых) кто только у неё не живал, пока не обзавёлся собственным жильём! Там последовательно перебывали, наверное, все реабилитированные, начиная с 1954 года. Достаточно назвать Ольгу Шатуновскую. Ольга Григорьевна приходила к бабушке прямо с заседаний в совершенном шоке от количества жертв и масштаба преступлений сталинских времён. В 1960-е и 1970-е годы наша квартира стала пристанищем диссидентов, отказников, правозащитников и преследуемых властями… Это мог бы быть очень важный исторический музей, но я не уверена, что он возникнет.
– Коль прозвучала фамилия Шатуновской, думаю, надо несколько слов сказать и о ней.
– Ольга Григорьевна была осуждена по ложному доносу в 1937-м. Освобождена в 1954-м, в 1956-м была включена Хрущёвым в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, занимавшийся вопросами реабилитации репрессированных, в 1960 году активно работала в составе так называемой комиссии Шверника, созданной Президиумом ЦК КПСС для расследования судебных процессов 1930-х годов.
– Вы были довольно взрослым человеком, когда в жизни вашей мамы появился Сахаров. Однажды мама, придя домой, сказала: «Таня, я выхожу замуж!»
– К своему стыду, я точно не помню, как мама сказала, но она не могла сказать: выхожу замуж. Потому что не хотела выходить замуж. Она хотела сохранить свободу. Андрею Дмитриевичу стоило больших усилий убедить маму зарегистрировать брак. Сахаров считал, что штамп в паспорте в какой-то степени защитит её и её детей от возможных репрессий. Наверное, он был прав. Репрессии всё равно последовали, но я не исключаю того, что они могли быть более жестокими или имели бы более серьёзный исход, чем тот, что имели. Меня исключили из университета под совершенно надуманным предлогом.
– Что вам инкриминировалось?
– Участие в демонстрации. Во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году жертвами террористического акта стали 11 членов израильской сборной. В Москве у ливанского посольства (террористы были опознаны как палестинские федаины из лагерей беженцев в Ливане, Сирии и Иордании. – прим. авт.) прошла демонстрация протеста, в которой я действительно участвовала. Декан моего факультета Ясен Засурский, которого сегодня воспринимают как демократа, как честного и порядочного человека, изложил Андрею Дмитриевичу свою версию событий. Якобы арабские студенты на факультете потребовали моего исключения. Арабских студентов у нас вообще не было. На моём курсе учился только один иностранец, и тот из Эфиопии. С ним я дружила. Я была единственной из студентов, кто подходил близко к человеку с чёрной кожей и общался с ним. Уж он точно не стал бы требовать моего исключения. Заявление Засурского – явная ложь, а моё исключение – результат его трусости. Моего брата вообще не приняли в университет. Причём совершенно вопиющим образом исправив четвёрку на двойку.
– По какому предмету?
– По сочинению. При поступлении на физико-математический факультет. Преподаватель, исправившая четвёрку на двойку, потом призналась, что ей было велено так сделать. Алёша поступил в педагогический институт имени Крупской, на факультет математики, и там был одним из лучших студентов, но и оттуда его изгнали перед самыми госэкзаменами, тоже придумав предлог.
Я не исключаю, что, если бы брак мамы и Андрея Дмитриевича не был зарегистрирован, то привлечь внимание мировой общественности (выражаясь высоким штилем) и мировой прессы к нашим судьбам было бы гораздо труднее. Так что в каком-то смысле, да, мы были защищены. Но имя Андрея Сахарова не защитило нас от угроз, которые мы получали неоднократно, и очень страшных событий, по-видимому, инспирированных и осуществлённых КГБ. Так, например, наш с Ефремом двухлетний сын Матвей совершенно загадочным образом тяжело заболел, и его с трудом удалось спасти. Скорее всего, это было осуществлением одной из угроз. (Так полагает Татьяна Янкелевич-Боннэр. – прим. ред.)
– Чего от вас добивались?
– Угрозы были направлены на то, чтобы заставить Андрея Дмитриевича отказаться от общественной деятельности. Мы стали заложниками противоборства Сахарова с преступным режимом.

– И вы эмигрировали…
– Мой муж, Ефрем Владимирович Янкелевич, был активным участником правозащитного движения, одним из постоянных авторов «Хроники текущих событий» (первый в СССР «самиздатовский» правозащитный информационный бюллетень, выпускался с 1968 по 1983 год. – прим. авт.). Он был очень принципиальный человек, готов был идти в лагерь, но не готов был платить за свои убеждения и поступки здоровьем и жизнью близких ему людей. Мы с Ефремом не могли не видеть, как от нашего заложничества страдают мама и Андрей Дмитриевич. Угрозы мне, детям, всей семье для них были невыносимы. И под давлением обстоятельств мы приняли решение эмигрировать. Вот это был выбор. А поведение моей мамы, достаточно спонтанное, всегда было совершенно естественным проявлением её личности и её стремления к справедливости и гуманности.
Мы уехали в сентябре 1977 года. Вслед за этим, практически немедленно, моего брата исключили из вуза. За исключением последовала угроза призыва в армию, и Алёша, хотя, как он сам говорил, был больше готов к лагерю, чем к эмиграции, в мае 1978-го тоже был вынужден уехать. Мама часто вспоминала эти слова о его большей готовности к лагерю, чем к эмиграции.
Алёше пришлось уехать одному. Его жену Лизу Алексееву не выпустили. КГБ последовательно делал заложников; наступила очередь Лизы. Как пишет Андрей Дмитриевич в воспоминаниях, «теперь Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности». Под надуманным предлогом Лизу не допустили до госэкзаменов – не дали получить диплом о высшем образовании. Её уволили из вычислительного центра, где она работала оператором. Когда Лиза собиралась поехать в Горький, где в то время уже находились в ссылке Андрей Дмитриевич и мама, сотрудники КГБ её схватили на улице, отвезли далеко за город, в лес и выбросили из машины в снег. Родителей Лизы настраивали против дочери. Это было жестоко, чудовищно. И постоянная клевета в газетах, которая довела её до очень тяжёлого нервного состояния. Выезд Лизы к Алёше стал возможен только через четыре года. Это потребовало огромных усилий и мамы, и Андрея Дмитриевича, и стало результатом их голодовки.
КГБ и маму подвергал таким испытаниям, которые человек с менее твёрдой волей не смог бы выдержать. А она во время ссылки в Горький продолжала осуществлять связь Сахарова с внешним миром. Это была далеко не простая задача. Обыски происходили даже в поезде. Однажды обыск продолжался не один час. Поезд по прибытии в Москву отогнали на запасные пути, и ей пришлось с тяжёлыми сумками и чемоданами тащиться через железнодорожный мост. Мама потеряла сознание. По-видимому, у неё произошёл инфаркт. Каким-то чудом она добралась до дому, где её выхаживали друзья. КГБ надеялся заставить Сахарова замолчать. Не удалось! Андрей Дмитриевич выигрывал абсолютно по всем позициям. Каждую из битв он доводил до логического, победного конца.
– Не знаю, будет ли для вас новостью следующая информация. На политинформациях в трудовых коллективах в те годы лекторы говорили: Сахаров – голова, а Боннэр – шея…
– Я не опущусь до комментариев, настолько это смехотворно.
– Отвечая на вопрос журналиста, кто ваши соратники, Андрей Дмитриевич сказал: у меня нет соратников – у меня есть соратница.
– Безусловно. Не то ведь можно подумать: Боннэр – некий придаток Сахарова. Союз Сахарова и Боннэр был в высшей степени на равных. Для меня это – безусловно. Хотя Андрей Дмитриевич и писал в дневнике: «Люся подсказывала мне (академику) многое, что я иначе не понял бы и не сделал. Она большой организатор, она мой мозговой центр».
Размышления об интеллектуальной свободе
– Ваши первые впечатления от Сахарова как от человека? Всё-таки трижды Герой Социалистического труда, академик, один из создателей водородной бомбы…
– Ко времени нашего знакомства я знала об Андрее Дмитриевиче, слышала о нём. Его «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» ходили в самиздате, были у нас дома. Мама тогда прочла, а я значительно позже, в зрелом возрасте. Тогда-то, уже живя в Америке, и поняла, какой это уникальный документ. Позвольте мне процитировать Андрея Дмитриевича:
«В начале 1968 года я начал работу над книгой, которую назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней я хотел отразить свои мысли о самых важных вопросах, стоящих перед человечеством, – о войне и мире, о диктатуре, о запретной теме сталинского террора и свободе мысли, о демографических проблемах и загрязнении среды обитания, о той роли, которую может сыграть наука и научно-технический прогресс. На общем настроении работы сказалось время её написания – разгар Пражской весны. Основные мысли, которые я пытался развить в «Размышлениях», не являются очень новыми и оригинальными. В основном это компиляция либеральных, гуманистических и «наукократических» идей, базирующаяся на доступных мне сведениях и личном опыте. Я оцениваю сейчас это произведение как эклектическое и местами претенциозное, несовершенное («сырое») по форме. Тем не менее основные мысли его мне дороги. В работе чётко сформулирован представляющийся мне очень важным тезис о сближении социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом, как единственной альтернативе гибели человечества».
Появление «Размышлений» академика Сахарова произвело совершенно ошеломляющее впечатление на мировое научное сообщество. Я не преувеличиваю. Эссе вышло в Америке летом 1968 года. Но это была не первая публикация. В Европе оно было опубликовано в одной из голландских газет аккредитованным в Москве журналистом Карелом ван хет Реве. А газета «Нью-Йорк таймс», получив рукопись, усомнилась в её подлинности, там решили, что это подброшенная «утка», и опубликовали только летом 1968-го, да и то с сокращениями. Лето в общественной жизни – мёртвый сезон. В сентябре в бюллетене Массачусетского технологического института состоялась ещё одна публикация «Размышлений» Сахарова. После чего эссе уже обсуждало всё мировое научное сообщество. В Америке осенью того же года, чуть позже, созвали международный симпозиум для обсуждения проблем, поднятых академиком Сахаровым. Андрей Дмитриевич сформулировал и изложил проблемы, которые до него вкупе не поднимал никто. Эйнштейна они волновали, он их поднимал, но по отдельности, а в совокупности и в синтезе, и особенно в отношении Советского Союза и советской истории и репрессий, никто не говорил. Андрей Дмитриевич поднял тему мирового голода, тему перенаселения, тему опасности термоядерной войны, ядерного противостояния. Все вместе это произвело ошеломляющее впечатление даже на людей, которые занимались каждым из этих вопросов по отдельности. И в течение года, боюсь ошибиться, может быть, даже быстрее, «Размышления» были опубликованы во всём мире, на разных языках, в количестве более миллиона и ста тысяч экземпляров.
– Когда я учился в университете, на лекциях по истории КПСС рассматривались разные модели развития общества. Теория конвергенции преподносилась как нечто экзотичное. Благодаря академику Сахарову я стал её сторонником. Берётся лучшее от капитализма, берётся лучшее от социализма…
– Я не социолог, не политолог и не философ, но в сказанное вами хочу внести некоторую коррективу. Я что-то не вижу подтверждения тому, что берётся лучшее. Ни от капитализма, ни от социализма.
– Вот я и хочу спросить: пересматривал ли Сахаров свои взгляды в зависимости от быстро меняющейся в 1980-е годы политической и экономической обстановки в стране, в мире?
– Мне кажется, многозначительно само название: «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Интеллектуальная свобода – концепция более узкая, чем права человека, и не только узкая, а специфическая; это только одно из проявлений, и весьма частное проявление прав человека. Права человека – категория общечеловеческая. В эссе же чуть ли не мельком возникает словосочетание «права человека».
Эволюция взглядов Андрея Дмитриевича привела его к пониманию о неразрывности международной безопасности и прав человека. К убеждённости в том, что мир не может быть уверен в безопасности человечества, если не будут соблюдаться права человека. И этот постулат, «доктрина Сахарова», остаётся в силе до сих пор. Многое из того, что есть в «Размышлениях», было Андреем Дмитриевичем потом уточнено, развито, дополнено, а некоторые из аспектов отринуты. Ефрем Янкелевич прекрасно понимал систему мышления Сахарова, его взгляды, истоки воззрений и политической философии и предпринял попытку изложения и анализа основных взглядов и общественно-политических идей Андрея Дмитриевича в очень хорошем, на мой взгляд, очерке «Эволюция политических взглядов Сахарова» («Альтернативы Сахарова»). Рекомендую прочесть.

Академический паёк
– Татьяна Ивановна, мы с вами как-то отдалились от ответа на вопрос…
– Каков был Андрей Дмитриевич, когда я с ним познакомилась? Я его впервые увидела у него в квартире. Надо было доставить Сахарову папку с документами, которая совершенно невероятным образом исчезла со стола судебных заседателей во время суда над Пименовым и Вайлем (Револьт Пименов, Борис Вайль – диссиденты. – прим. авт.) в Калуге…
– …Во время которого Сахаров и Боннэр познакомились?
– …Во время которого мама и Андрей Дмитриевич впервые увидели друг друга. Хотя и по этому поводу существуют «разночтения». Андрей Дмитриевич в воспоминаниях настаивает на том, что он впервые увидел маму на квартире Валерия Чалидзе (правозащитник. – прим. авт.) во время заседания Комитета прав человека, что уже тогда на неё обратил внимание. Мама этого не помнила.
– Что значит: папка исчезла «совершенно невероятным образом»?
– Во время суда жена Пименова, в общем-то сдуру, под влиянием какого-то импульса утащила её со стола судебных заседателей. Возникла совершенно нелепая ситуация: суд обратился к Ковалёву (Сергей Ковалёв – правозащитник. – прим. авт.) с просьбой помочь найти документы. Каким-то образом папка эта оказалась у моей мамы, она и откомандировала меня с ней к Андрею Дмитриевичу, чтобы он вернул документы. Насколько я знаю, Чалидзе предупредил Сахарова: «Вы сразу её узнаете – она очень похожа на Елену Георгиевну». Не думаю, что тогда я была очень похожа на маму, но так было сказано. Андрея Дмитриевича я увидела в большой прихожей его квартиры, он как-то так махнул рукой: «А, Таня!»
– Как складывались и какие сложились отношения между вами, детьми Елены Боннэр, и Сахаровым?
– И я, и мой брат, да и мой муж с большим теплом относились к Андрею Дмитриевичу. Во-первых, мы с Алёшей его воспринимали не как отчима, а как друга. Таким он для нас и был. Мне уже исполнилось 20 лет, я была замужем. Мы с Ефремом какое-то время называли маму и Андрея Дмитриевича «молодые». Алёше было четырнадцать, он с огромным интересом отнёсся к Андрею Дмитриевичу. Случались и какие-то комические ситуации. Андрей Дмитриевич в воспоминаниях пишет, как Алёша преподал ему урок. Мама и Андрей Дмитриевич куда-то шли по улице вместе с Алёшей, Андрей Дмитриевич достал из кармана шоколадку, развернул её и съел. (Смеётся.)

– Настолько был погружён в себя?
– Да!
– На что Алёша?..
– …Сказал: «Вас, Андрей Дмитриевич, в поход брать нельзя!» Сахаров пишет – ему было очень стыдно.
– Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна поженились отнюдь не в юношеском возрасте. Это был брак по любви?
– Вне всякого сомнения! Но мама не любила распространяться об интимной стороне жизни, и я последую её примеру.
– Может показаться, что Сахаров и Боннэр жили исключительно общественной жизнью. Но кто-то же должен был заниматься домашними делами…
– То, что Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна очень много работали и много успели сделать, вовсе не значит, что не было быта. Быт был. Всегда. Есть надо? Носки штопать надо? Кто, прислуга это будет делать? Прислуги не было. Вернее, так. До Сахарова к нам раз в неделю приходила Елена Ивановна. Она помогала маме по хозяйству: прибирала, мыла, ходила за продуктами. Маме из-за контузии нельзя было поднимать тяжести; тяжёлые покупки – картошка, свёкла, капуста, лук – делала Елена Ивановна. Вскоре после того, как к нам переехал Андрей Дмитриевич, Елена Ивановна появилась только раз. Для того, чтобы сказать бабушке: «Руфь Григорьевна, извините, я больше приходить не смогу». Объяснила это тем, что её «вызывали» и велели докладывать о том, что происходит в доме. Елена Ивановна, абсолютно порядочный человек, не могла доносить на кого бы то ни было, тем более на семью, которую близко знала лет двадцать. Весь быт лёг на бабушку и маму. Мы с Алёшей всегда помогали по хозяйству, а тут уж, как говорится, вариантов не оставалось.
Рой Медведев в своей книге «Солженицын и Сахаров», где большая часть посвящена Андрею Дмитриевичу, позволяет себе судить о том, что нужно было Сахарову: простая женщина, которая бы о нём заботилась, которая бы готовила ему обед. Обед в доме был всегда! Больше скажу: мама очень вкусно готовила. Андрей Дмитриевич принимал участие в приготовлении праздничных пирогов – как правило, капустных. Ему очень нравилось рубить капусту. Он даже сочинил математическую задачу, которая была опубликована в его научных трудах: каков может быть многогранник при рубке капусты для пирога? Андрей Дмитриевич мыл посуду. При этом он пел «Варшавянку» или что-нибудь из Галича.
Наш папа тоже мыл посуду. В нашей семье никакой труд не считался зазорным. Мы жили в коммунальной квартире, где полагалось по очереди мыть так называемые места общего пользования. Маме по причине контузии и болезни глаз была противопоказана тяжёлая физическая нагрузка, и она нанимала для помощи женщину. Папа, узнав об этом, заявил: «Да за три рубля я и сам помою!» И мыл – три рубля для нас были большие деньги.
И при Сахарове жизнь была довольно-таки скромная. Андрей Дмитриевич свою академическую зарплату чётко распределил на несколько частей. Он всю жизнь поддерживал неработавшего больного брата. Поддерживал сына и дочерей от первого брака. (Первая жена А. Сахарова Клавдия Вихирева умерла в 1969 году от рака. – прим. авт.)
Единственное, что изменилось с приходом Андрея Дмитриевича в наш дом, – появился академический паёк. Назывался он «заказ» и продавался в специальной столовой Академии наук. Мама очень не любила ездить за «заказами». Андрей Дмитриевич заезжал сам, в те дни, когда у него был семинар в Физическом институте Академии наук. Он укладывал в сумку свёртки, не разворачивая, и, наверное, даже не знал, что внутри.
Академический паёк, конечно, был хорошим подспорьем в те времена, когда обеспечить семью самыми необходимыми продуктами оказывалось совсем не просто. Из этого «пайка» мама помогала политзэкам – время от времени можно было заказать твёрдокопчёную колбасу, отсутствовавшую в гастрономах для «простых» советских граждан; колбаса эта шла в продуктовые посылки в лагеря.
Так что мы жили обычной жизнью московской интеллигенции. Никаких роскошеств или излишеств не было. Если не считать машины, которая скорее была необходимостью. Но она появилась позже, году в 1976-м.
Помню, маме говорили: «Как вы можете заставлять Андрея Дмитриевича водить машину?! Это так опасно! Он совершенно для вождения не создан! Сахаров – кабинетный учёный!» Ну, во-первых, мама Андрея Дмитриевича никогда ничего не заставляла делать. А во-вторых, он был очень горд тем, что научился водить машину.
– В 2006-м Елена Георгиевна уехала…
– Это очередное расхожее заблуждение или наговор: она не уехала.
– Татьяна Ивановна, я не сказал: эмигрировала…
– Да, вы сказали «уехала», но в России большинством людей «уехала» воспринимается как «эмигрировала». Оставшись одна, мама стала приезжать к нам, своим детям, на зиму. Она была уже тогда тяжёлый сердечник, перенесла операцию на сердце и не один инфаркт. Московские медики с большим трудом справлялась с её сердечными проблемами, советовали подольше оставаться в Штатах. Но по той визе, которую мама имела, она не могла быть у нас больше четырёх месяцев. С каждым годом ей всё сложнее было находиться в Москве одной, всё труднее давались перелёты. С 2004 года по состоянию здоровья мама уже не могла возвращаться в Москву, и мы оформили ей грин-карту – вид на постоянное жительство, как матери американских граждан. До этого, после смерти Андрея Дмитриевича, она, повторю, больше четырёх месяцев в году не проводила за пределами России, за пределами Москвы, своей квартиры. Она никогда не подавала на американское гражданство и никогда не отказывалась от российского, сохранила его до конца жизни.
– Урна с её прахом захоронена в Москве на Востряковском кладбище согласно завещанию?
– Да. Рядом с мужем – Андреем Дмитриевичем Сахаровым.

Татьяна Боннэр-Янкелевич окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «редактор». В США преподавала русскую и советскую литературу и историю СССР после Второй мировой войны в «Бентли колледж». Читала лекции о правозащитном движении и об Андрее Сахарове и Елене Боннэр в американских колледжах и университетах. Больше десяти лет проработала в Брандейском университете заместителем директора Сахаровского архива. После передачи архива в 2004 году в Гарвардский университет пять лет проработала там директором Программы прав человека имени Андрея Сахарова. Как независимый исследователь работает с личным архивом матери.
«Зимой сорок первого, за несколько дней до Нового года, я сидела на лавке в полутёмном коридоре Свердловского РЭПа – распределительно-эвакуационного пункта. Ждала, куда меня направят. После ранения, госпиталя, команды выздоравливающих простое «хочу на фронт» испарилось. На смену пришёл отчётливо ощущаемый холодок в животе – страх перед будущим… Я стала медсестрой. Хорошей.

Помогли Таисия Ивановна Жиганова, не вызывавшая у меня симпатии, но восхищавшая профессионализмом старшая операционная сестра, и самая пожилая из всей команды поезда заведующая аптекой Анна Андреевна Знаменская. Потом я стала старшей медсестрой ВСП 122, потом начальником медчасти отдельного сапёрного батальона. И выжила».
(Из очерка Елены Боннэр «Бессонной ночью в канун юбилея»)
[divider]
Владимир Желтов
По материалам: “Совершенно секретно”