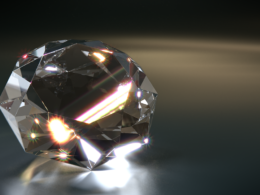Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…

(Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)
- «Мой вечный… круг пустоты…»
Не за три, не за тридцать — за триста лет до приезда Цветаевой в Москву один писатель сказал слова, которые были (один в один!) про нее: «Если на земле появляется действительно великий человек, его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него…» Фраза эта тоже — из моего блокнота. А знаете, чьи слова? Джонатана Свифта! Священника, доктора богословия и только потом — писателя. Он их сказал три века назад. С тех пор не изменилось ничего. И вряд ли, думаю, изменится в ближайшие три. Так устроен гений и так устроена, увы, толпа!..
Аля на первых еще допросах скажет: «о приезде матери» нельзя было сообщать никому до «получения точных директив НКВД». Но вот странность — уже на второй день приезда Цветаевой в Болшево в литературных кругах Москвы пополз слух: «Марина вернулась». Именно так — Марина! — без отчества и фамилии. «Как о царице», — заметит один поэт. Верно заметит! Ибо там, среди знатоков, она и числилась царицей на троне — на троне русской поэзии. Ни эмиграция, ни расстояния и бойкоты, ни надежная граница и безнадежная для честного слова цензура не могли уже остановить славы ее. Мечта исполнилась: она стала «вторым Пушкиным» или, как мечтала, «первым поэтом-женщиной». Фантастика, но еще в 1927-м написала Пастернаку: «Просто в России сейчас пустует трон, по праву — не по желанию — мой…» А в 1939-м именно он, Пастернак, может, самый близкий ей человек в Москве, испугался поначалу даже встретиться с ней. Я еще напишу об этом.
Из письма Цветаевой — Анне Тесковой: «Эх! — Я давно отказалась понять других: всё по-другому… Например, вдова недавно умершего русского писателя, живущая только им, не едет… на кладбище… потому что очереди на автобус… трудно сесть на автобус. Убейте — не пойму. Любовь — дело, кто только чувствует — не любит: любит свои чувства… Я в цельности и зрячести своего негодования — совершенно одинока… Вернее — живу одна, с собой, с другими — не живу: или бьюсь о них лбом — как об стену, — или молчу. Я думаю, что худшая болезнь души — корысть. И страх. Корысть и страх…»
«Белогвардейка» — это слово-клеймо впервые шепотнется за ее спиной в Голицыне, в Доме отдыха писателей, в пятидесяти километрах от Москвы. Словечко бросит возмущенно Фиме Фонской, директору Дома, выскочив из-за общего стола, драматург, даже поэт, Волькенштейн. И — потребует пересадить его, советского писателя, подальше от «этой»… Он даже не поздоровается, сделает вид, что не знаком с Цветаевой. А ведь это был Володенька Волькенштейн, которого она знала с 1910-х, кто был когда-то мужем ее подруги Сони Парнок, и кто в 1920-м приходил, почти приползал к ней, прося пристроить его пьесу в московские театры. Вот что делал с людьми страх. И — корысть…
В Голицыне поселилась в декабре 1939-го. К кому она, полубезумная, кинулась из Болшева? Конечно, к писателям. Есть, есть, сказала когда-то, над литературными драками и тщеславием «круговая порука ремесла, порука человечности». Высшая справедливость! Но куда там! Сам Фадеев, генсек Союза писателей и уже член ЦК ВКП(б), не только отказался принять ее в Союз, но на просьбе ее хотя бы о временном закутке бестрепетно начертал: «Тов. Цветаева! Достать Вам комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов нуждаются в жилплощади…» И посоветовал снять жилье рядом с домом отдыха в Голицыне, а питаться (он распорядится) по курсовкам в писательской столовой. Записка Фадеева (он как раз в это время закончил писать восторженную книгу о наркоме Ежове!), к счастью, сохранилась. Не записка — навечный приговор себе, да и всему пистельскому цеху…
Голицыно — ледяная пустыня ее жизни! Здесь, в частном доме на Коммунистическом (конечно же) проспекте, она с сыном в самые суровые морозы полгода жила фактически на веранде. Ни родных (два раза в месяц возила им передачи на Лубянку), ни друзей (ее обегали, как заразную), ни теплых вещей (багаж, застрявший на таможне, был адресован арестованной Але), ни дров своих, ни денег — ничего. В доме не было даже электричества, сначала — даже лампы керосиновой. А в другом конце этого проспекта стоял теплый и уютный Дом творчества, на десять-пятнадцать писателей всего, где ей с сыном позволили кормиться. «По ночам… не сплю, — напишет знакомой, — боюсь — слишком много стекла… Ночные страхи, то машина, то нечеловеческая кошка, то треск дерева, вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, — и опять читаю… и опять — треск и опять — скачок — и так до света. Днем холод, просто — лед, ледяные руки, и ноги, и мозги… В доме ни масла, ни овощей, одна картошка, а писательской еды не хватает — голодновато — в лавках — ничего, только маргарин (брезгаю неодолимо!), и раз удалось достать клюквенного варенья». Раз за полгода. Завтраки носила в кастрюльках к себе, а обедать и ужинать с сыном ходила сюда — в Дом творчества. Как казалось — к людям.
Таня Кванина, молоденькая учительница, жена писателя Москвина, запомнит, как среди литераторов дома, каждый из которых был для нее не меньше Льва Толстого, вдруг возникла легкая женщина в свитере, длинной юбке, стянутой поясом и с чеканной, «зернистой» речью. Возникла, как «с Марса», и всё вокруг — изменилось. «Тут же смолкло лакейское перемывание чужих костей, все как-то потускнели, как бы поглупели…» Но «легкую женщину», увы, скоро выживут из этого дома: поднимут цены на курсовки. «Снять с питания? — услышит как-то Цветаева телефонный разговор Фонской, директорши, с Москвой. — Хорошо. Сегодня так и сделаю…» На кухне Нюра, повариха, спросит: «Разве вы не завтракаете?» — «Я? — чуть не плача, переспросит Цветаева. — Нет. Дело в том, что они за каждого просят 830 рублей, а у меня столько нет, и я вообще честный человек, я желаю им всего хорошего, и дайте мне, пожалуйста, на одного…» То есть — на сына. Вот этой кухни, этих слов ее не могу представить себе и ныне. Знаю, что было. Знаю, что все платили и за еду, и даже за проживание всего по 500 рублей. Знаю, наконец, что все и вся были против нее. И всё равно — не могу. Ведь это был Дом пи-са-те-лей! Мур, мальчишка, и тот запишет в дневнике пророчески: «Не быть нам за столом со всеми». И добавит: «Мне-то лично наплевать, но каково-то маме!..» А ведь ее дорога в ад только начиналась…
Из письма Цветаевой — поэтессе Вере Меркурьевой: «Меня начинают жалеть… совершенно чужие люди. Это — хуже всего, п.ч. я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала… Я от природы очень веселая… Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. — Всё. — И вот — чтобы это несчастное счастье — так добывать, — в этом не только жестокость, но глупость… Счастливому жизнь должна радоваться… От счастливого — идет счастье. От меня — шло. Здорово шло… Мне — совестно, что я еще жива…»
Самая большая загадка ее возвращения — почему ее не арестовали? Ведь брали всех, и по ничтожнейшим поводам. Я уже писал как-то: одного арестовали — так записано в его деле! — за то, что он — «антисоветски улыбался». Тогда, что же это? Случай? Рулетка? Карусель, где в бешеном кружении сливались лица и непонятно было — кого выхватывать? Не знаю. И, кажется, никто и сегодня не знает.
«Поздравляю себя (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцелением», — запишет Цветаева после ареста Сергея и Клепининых. А Аля к тому времени давно во всем «созналась», увлекая за собой и отца, и даже, представьте, мать.
Из протокола допроса Ариадны Эфрон: «Скажите, только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за границу?» — «Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход советской власти и не считала возможным примириться с ее существованием…» — «А на кого работал ваш отец?» — «Отец, так же как и я, является агентом французской разведки…»
Против этих выбитых из нее слов палачи, может, и сам Берия, поставили победный частокол «воскликов». Ее били резиновыми палками — «дамскими вопросниками», как назовет их потом, ставили навытяжку в карцер, даже имитировали расстрел. Но ошарашивающей неожиданностью стало для нее появление вместо привычного уже следователя лейтенанта Кузьминова Андрея Свердлова, сына первого председателя ВЦИКа Якова Свердлова и, представьте, недавнего приятеля ее и Мульки, жениха Али Самуила Гуревича. Они в общих компаниях, буквально вчера еще, вместе ходили в кино, упивались джазом Цфасмана, часами сидели в уютном ресторанчике Жургаза — Журнально-газетного объединения на Страстном, где работали и Аля, и Муля (Москва, Страстной бул., 11). Здесь, в сохранившемся и поныне особнячке, вся компания еще потешалась над Алей, считая ее «старомодной», пеняла, что в журнале «Ревю де Моску» она пересиживала часы: «Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста рублей…» И вдруг он, Андрей Свердлов, — ее следователь. Да какой! Он, отлично знавший, почему и как она вернулась в Россию, теперь заставлял ее подписывать «такой бред», что у нее волосы вставали дыбом. И крыл таким матом, какого она «от уголовников потом не слышала». А когда однажды она уперлась, заявил: «Ну раз вы не хотите по-хорошему, придется… поговорить иначе». И вызвал костоломов… Кстати, как отмечала Мария Белкина, биограф Цветаевой, в протоколах допросов Али имя Свердлова отсутствует. Он доживет до старости, в 1963-м уже, в «барском» санатории Барвиха встретится с Твардовским, поэтом, и тот запишет в дневнике: «Странный, загадочный человек. 16 лет работы в НКВД… В детстве знал Ленина. Знает бездну деталей, сплетен, анекдотов “придворной” жизни. Куда до него тому екатерининскому генералу, которому повезло видеть голую задницу императрицы! Этот… видел искусственный член Ягоды (каучуковый, на поясном ремне). Знает… что Берия занимался онанизмом в камере. Знает, кто под кого “копал” и кто на кого “капал”… Чаще всего сообщает о людях дурное: Тухачевский — морфинист, Косарев — бабник, использовавший служебное положение, та-то — блядь, тот-то — сукин сын…» Но про Цветаеву и Алю не сказал Твардовскому ни слова. Хотя, думаю, допрашивал всех «парижан» и Сергея, которого в Лефортове довели до психушки…
Алю сдал органам Павел Толстой; он часто бывал в парижском доме Цветаевой. Этот без всякого битья настрочил донос даже на родного дядю — гремевшего уже «графа-писателя» Алексея Толстого, у которого жил подолгу. Про Алю на допросах поведал: она «ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью — по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических», а все, включая Эфрона и «белогвардейского писателя» Бунина, с которым дружили, стремились к одному — «к возврату в прошлое». Позже на Цветаеву (так гласят документы) показания дадут едва ли не все подельники мужа. Клепинин: «Весь строй СССР ей чужд». Литауэр (сподвижница Сергея по разведке): «В Болшево не стеснялась заявлять, что приехала, как в тюрьму, и что творчество здесь невозможно». Разве этого мало для ареста Цветаевой? Ведь и из Сергея выбьют: «В некоторых произведениях высказывала взгляды несоветские…»
Сергей окажется самым упорным. Когда его потом реабилитировали, военный прокурор, листая дело Сергея, сказал Але: «Ваш отец — мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки». Восемнадцать допросов по протоколам (иные по тринадцать часов), хотя таскали к свердловым чуть ли не ежедневно почти год. Это означало одно: не требовалось протоколов, ибо ни пытки, ни избиения не давали новых признаний. Тюремный врач написал про него: «Обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене. Тревожен, мысли о самоубийстве, ощущает невероятный страх…» А читавшие ныне допросы его говорят: подпись его под последними протоколами выводилась уже каракулями, чуть ли не печатаными буквами.
Но Цветаеву, повторяю, ни разу не вызвали даже на допрос, а потом — не выслали, как жену и мать «врагов народа». Разве не загадка загадок? И ответа — нет. Кроме бредового, конечно: ее спас Сталин. Все остальные, его Политбюро, министры, «запроданный на три поколения вперед» Союз писателей порвали бы ее, дай им волю, «в куски». Но — почему же, почему спас? — терзал я вопросами ту же Ирму Кудрову, биографа Цветаевой. Она же, помолчав, ответила: «Наш «великий горец», он же «людоед», был очень, очень не глуп. И дальновидно расчетлив…»
Это факт, это уже не бред! Ответ — в той фразе Свифта про великих людей. Сталин, шуганув беспощадных «нукеров» своих подарил жизнь (о чем я не раз писал уже) Андрею Белому, Ахматовой, Пастернаку, Замятину, Булгакову, Платонову, Михаилу Кузмину. И первому поэту ХХ века — Цветаевой. Каприз палача? Наверное. Но ведь и безупречный литературный вкус. Он оставил жить ровно тех, кто составляет ныне самую громкую славу русской литературы. Великий, по Свифту, он и спасал — великих! И умер, как триста лет назад описал этот «экспириенс» Свифт. Тот в последнем письме, почти слепой уже, написал и про свой опыт жизни, и про всех будущих великих: умирать им придется, написал, «как отравленной крысе в своей норе…» Так умер вождь. И не так ли умрет загнанная веком великая Цветаева?
(Продолжение следует)